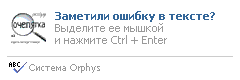Отрывки из книги воспоминаний первой чувашской киноактрисы Тани Юн «Дни и годы минувшие», вышедшей недавно в Книжном издательстве
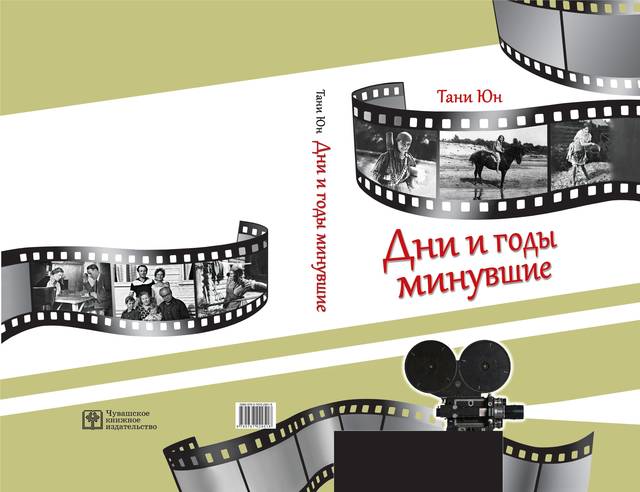
Отрывки из книги воспоминаний первой чувашской киноактрисы Тани Юн «Дни и годы минувшие» уже давно «гуляют» по Интернету. Наконец, долгожданная книга в переводе Зои Романовой вышла отдельным изданием в Чувашском книжном издательстве. Предлагаем читателям главу, посвященную разгулу сталинских репрессий.
В.Н. Алексеев, главный редактор Чувашского книжного издательства.
ВРЕМЯ, КОТОРОЕ НЕ ХОЧЕТСЯ ВСПОМИНАТЬ...
В 1937 году в Советском Союзе произошла настоящая трагедия: начался арест ни в чем не повинных ответственных работников в партийных организациях и учреждениях. Вершился этот разгул во времена культа личности Сталина, когда злобные людишки могли свести счеты с неудобными для них людьми. Эта нежданная беда прямым образом коснулась и нас — мужа и меня.
Попробую рассказать по порядку.
* * *
Летом наша дочь Изида жила в деревне у бабушки. И вот мы приехали за ней в деревню Чербай. Погостили с недельку и все втроем выехали в Чебоксары. Не доехав чуть до города, автобус наш вдруг остановился: возможно, поломка, потому что шофер нырнул под капот и что-то там завозился. Пассажиры вышли из автобуса и стали прохаживаться вокруг. Вышли и мы. И залюбовались Чебоксарами, утонувшими в предвечернем тумане, сквозь который электрические фонари светили каким-то волшебным расплывчатым светом. Звучала веселая плясовая...
— Как красиво смотрится наш город! — не утерпела я.
— Красиво-то красиво, но мне почему-то не хочется туда возвращаться... Что-то на душе тревожно... — И Кошкинский тяжко вздохнул.
— Не хочешь жить в Чебоксарах — поедем в Москву, — по-взрослому успокоила отца Изида.
Шофер наконец покончил с ремонтом, пассажиры заняли места, мы тоже. И вот мы в городе.
На другой день пришли на работу и увидели: в театре творится что-то непонятное. Одни актеры почему-то не смеют смотреть нам в глаза, другие, наоборот, смотрят свысока и здороваются еле слышно...
— Ты понимаешь хоть что-нибудь? — спрашиваю Кошкинского.
— Пока ничего определенного...
В этот момент к нам подошли К. Егоров и П. Медиков.
— Наших жен пригласили «наверх» — говорят, поступило какое-то мерзкое письмо на вас, — сообщили готовые помочь нам артисты.
Вернулись домой потрясенные, и тут подошел Л. Семенов, чуточку под градусом. Присев на стул, он вдруг заплакал.
— Что делать, Яким Степанович, что делать? Меня уж трижды «наверх» вызывали — про вас гадости велят писать. Не напишешь — самого, говорят, посадим... А я не могу, не могу! Как это взять и оклеветать чистого человека? — не утирая слез, возмущался честный артист.
— Успокойся, друг, успокойся. Ты напиши то, что обо мне знаешь. Вреда я за свою жизнь, кажется, не принес никому, — попытался успокоить товарища Кошкинский.
— И то верно: пусть сажают, а неправды писать не стану! — пылко, по-артистичному, заявил Леонид Семенов и, пожав нам руки, ушел успокоенный.
Что ж, коль мы здесь не нужны театру, поедем в Москву — решили мы. Но в театре не оказалось денег, чтобы рассчитаться с нами, и мы задержались дня на два. Решить-то решили, но не так легко было сразу сорваться с места. Оставить театр, который ты сам создал... И мне нелегко расстаться со сценой, где намечено еще столько планов, забыть об искусстве... Легко сказать, но сделать...
Уехать из Чебоксар мы не успели: 13 июня 1937 года Кошкинского арестовали. И начались мои мучения.
Перво-наперво, нас с дочкой стали выселять из квартиры. Несколько дней я ходила по городу в надежде найти хотя бы комнату, но всюду получала отказ: в самом деле, кто пустит на квартиру жену и дочь «врага народа»? Был у нас в Москве жилой угол, но ехать туда не разрешил НКВД. А из квартиры нас вовсю выселяют, как говорится, по закону. Но суд встал на нашу сторону.
А в театре против меня тоже началась возня. Как-то подошел один актер (фамилию не буду называть, возможно, он тогда смалодушничал, а потом покаялся) и говорит:
— Тебя из театра собираются уволить. И защищать тебя вряд ли кто станет. Ты разведись с мужем, авось уцелеешь...
В те годы в самом деле бывали случаи, когда жены оставляли мужей, чтобы спастись самим и детям, но я не согласилась с предложением моего «защитника».
— Будь что будет, но я не стану добавлять моему мужу неприятностей, у него их сейчас и так по горло...
* * *
Приемная театра. За столом сидит новый директор Ефрем Чернов. Опершись локтями о стол, он глядит на меня исподлобья, и я читаю в его глазах: сейчас я тебя уволю и сам останусь целым... Позднее его тоже посадили.
Я сижу на диване. Слева от меня артист Трофимов, справа — актриса Никитина. Они допрашивают меня, перебивая друг друга и напирая на меня, как настоящие следователи:
— Каким образом твои фотографии попали на страницы зарубежных журналов?
Ах, вон что вас задевает, думаю про себя. К сожалению, не могу ответить на ваш вопрос, потому что не знаю, как фото известных артистов и других известных людей попадают на страницы газет, журналов, кстати, не знаю и до сих пор. Меня удивило другое: почему директор для разговора со мной пригласил именно этих людей? Он, будучи наркомом, прекрасно же знает их биографии! Кто-кто, а эти не стали на меня наговаривать всякие небылицы, но меня все равно уволили из театра. И осталась я с маленькой дочерью без работы, без денег. К тому же бухгалтер театра Бойков обсчитал меня при расчете: черные души не щадят даже тех, кто попал в беду. И судьба этого хапуги оказалась незавидной: за хищения в театральной бухгалтерии он вскоре сел на шесть лет...
Ко всем моим невзгодам еще добавился вызов в НКВД, к начальнику Розанову. Оказывается, Кошкинский написал мне письмо из подвала, куда его посадили, и письмо это попало в руки НКВД. По поводу письма мне и поступило приглашение к наркому.
Разговор был короткий — нужно было лишь определить, Кошкинского ли это почерк. Когда я стала уходить, вслед мне донесся ернический голос Розанова:
— Я бы вас с удовольствием арестовал, но...
— А что, есть повод для моего ареста? — Я резко обернулась.
— В том-то и дело, что нет... — отозвался мерзавец. — Хотя, собирая материал на Кошкинского, я многое узнал и о вас. Знаю, сколько у вас поклонников и кто они! — Розанов продолжал глядеть на меня масляными глазками.
— Учет поклонников актрисы — достойное занятие для начальника НКВД, — уколола я негодяя. — Конечно, вы меня можете арестовать — в ваших руках власть. Но знайте: если вы меня и посадите, я все равно выйду на свободу. А вот если посадят вас, вы оттуда не выйдете никогда, — без какого-либо страха ввернула я учетчику моих поклонников.
— Пошла вон отсюда! — дико заорал хозяин кабинета, что есть силы грохнув кулаком по столу.
— Не волнуйтесь, я уйду. Ведь я к вам пришла не по своей воле — вы сами меня вызвали... — И я гордо пошла к двери.
Мои слова оказались пророческими: Розанов недолго проходил в наркомах — его арестовали, и он так и умер в тюрьме...
После этого «визита» начались серьезные поиски причин, чтобы засадить меня в кутузку.
* * *
В один из вечеров ко мне домой заявился следователь Мазурин.
— Покажите мне пальто, купленное вами в торгсине, — указал он на одежду, висевшую на вешалке.
Я показала. Он свернул пальто и забрал его в НКВД, пригласив пройти с ним вместе, чтобы составить протокол о том, что мое пальто оставлено у них, а зачем — не сказал. Больше я пальто свое не увидела, не то чтобы поносить. Говорили, что досталось оно супруге наркома...
Следователь не допрашивал меня, но то ли для порядка, то ли из-за неудобства отпускать просто так, без допроса, сказал:
— Вы укрывали в доме националиста.
— Какого такого националиста? — удивилась я.
— Вашего мужа, разумеется. Националиста Кошкинского.
— Простите, а что оно означает это слово «националист»?
В ответ следователь криво усмехнулся и выписал мне пропуск на выход из учреждения.
Через два дня меня снова вызвали в НКВД — на сей раз пригласил начальник отдела Савин. И снова начал допытываться про мое «несчастное» пальто...
В те годы было трудно купить ткань на пальто или платье. Когда я училась в Москве в спортивной школе, заняла на соревнованиях по легкой атлетике первое место, и меня наградили серебряным молочником. Я отнесла его в торгсин и на эти деньги купила ткань на пальто. Обо всем этом я подробно поведала начальнику, даже имя и адрес портного назвала, а он одно свое: кто подарил вам это пальто? Интересно, кто же мог донести им про это пальто?
И в этот миг в дверях появился Иван Тихонов — бывший белый офицер. «Ага, значит, этот слух родился в театре», — сообразила я.
Тихонова усадили напротив меня, и началась очная ставка.
— Гражданин Тихонов, расскажите о том, как было приобретено это пальто гражданкой Тани Юн? — начал Савин.
— Четыре года назад я приехал в Москву и остановился у них в квартире... Тогда и увидел новое пальто. И спросил Татьяну Степановну, где можно купить такое для жены моей — Ольги Ивановны. Она ответила, — кивнул он в мою сторону, — что пальто это не покупала, его подарил шофер одного иностранного посольства...
Не глядя на меня, Тихонов бесстыдно врал: тогда это пальто еще даже не было сшито, возможно, он увидел другое и теперь нагло врал...
— Вы почему лжете, Иван Тихонович? Между нами никогда не было подобного разговора и не могло быть, потому что мне никто никогда не дарил никакого пальто. Тем более шофер, и среди моих знакомых у меня нет ни одного шофера... Как вам не стыдно? То, что вы лжете, видно по вашему поведению: вы не смеете смотреть мне в глаза, у вас дрожат руки и губы... Да на вас смотреть противно!
— Довольно обличать! Вы не следователь! — зло оборвал меня Савин. «Что ж, белый офицер и защищает белых офицеров», — подумала я про себя и успокоилась.
* * *
В эти дни я все время думала, как передать Кошкинскому сменное белье. Деньги принимали, а белье ни в какую. Что делать, как быть? Решилась пойти к прокурору Элифанову. Ознакомившись с моим делом, прокурор вдруг спросил:
— Скажите, Тани Юн, есть ли у вас знакомые шоферы?
— Нет, — говорю, — мои знакомые — это артисты, режиссеры, писатели... Откуда у меня могут взяться знакомые шоферы?
— Вот и я так же думаю, — согласился Элифанов. — Ничего умнее не могли придумать, кроме как пальто подарить да еще от шофера. Почему не от посла или советника посольства? Так бы куда вероятнее было, — рассуждал прокурор.
— Эта небылица из нашего театра вышла. И я знаю, кто ее сочинил, — одна семейная пара. Причем, сделали они это прямо при мне... Не знаю, за что они так меня ненавидят, особенно некоторые актрисы. Я им ничего плохого не сделала...
— Хотите, я скажу вам, за что они вас ненавидят?
— Скажите...
— Во-первых, вы — талантливая актриса, вас знают во всем Советском Союзе. Во-вторых, вы среди чувашских актрис самая красивая, одеваетесь лучше них, да и на сцене превосходите их своим талантом... Кто-нибудь из них может, к примеру, сыграть Соньку, Глафиру, Наталью из «Вассы Железновой» так, как вы? Нет, не могут. Вот за это они вас и ненавидят...
— Спасибо вам за добрые слова, но сцену они у меня из рук все-таки вырвали...
— Как понимать эти ваши слова? — не понял прокурор.
— Из театра меня уволили...
— Вот варвары! Нисколько не думают о судьбе театра! — искренне возмутился прокурор-театрал Элифанов: он не пропускал ни одного премьерного, да и репертуарного спектакля.
* * *
От чужих, ненавидящих тебя людей, можно спрятаться в своем доме, а как быть со своими ближними, например, с соседями?
В смежной с нами комнате жила семья певца И.В. Васильева — он и жена. В свое время мы с Кошкинским, пожалев, поселили их в одну из комнат нашей двухкомнатной квартиры. К тому же Васильев вроде бы числился в друзьях у Кошкинского. Жили мы дружно, не ссорились, да я и не помню, чтобы с кем-нибудь за свою жизнь поругалась или поспорила. Но когда на меня стали искать повод для преследования, супруга Васильева не сидела, набрав в рот воды, а действовала. Она наперечет знала всех, кто и зачем к нам приходил, и тотчас докладывала обо всем в НКВД. Узнала я об этом, лишь когда меня посадили. Честный человек уверен в том, что и другие люди такие же, как он. Вот и я никак не могла поверить, что мои соседи способны вырыть мне яму. Расскажу об этой злодейке подробнее.
В городе ее называли Баронессой — до Васильева она была замужем за бароном. Как-то раз, вернувшись из магазина, я обнаружила в своем кошельке иностранную купюру. Сижу на кухне и наругиваю невнимательную кассиршу, что сдала мне какую-то ненужную бумажку. Стоявшая неподалеку Васильева ринулась ко мне:
— Отдайте мне, пожалуйста, эту ассигнацию! Вам она ни к чему, а у меня немного есть таких денежек — сестра из Польши прислала... — И попыталась прямо вырвать из моих рук иностранную купюру.
Мне почему-то не понравилось ее такое нетерпеливое поведение, и я сказала:
— Не дам. Вы не разбогатеете этой бумажкой, я тоже, так что от греха подальше. — И я, выйдя за ворота, прямо на глазах Баронессы порвала бумажку на клочки и кинула в речку Чебоксарку...
* * *
Я с удовольствием перевожу комедию А.Н. Островского «Бешеные деньги», в которой мечтаю сыграть роль Лиды, когда снова вернусь в театр. Вдруг в дверь постучали.
— Входите. — На пороге стоял высокий, приятный на вид парень, в костюме и вышитой косоворотке.
— Я пришел, чтобы передать вам приветы, — сказал, смущаясь.
— Проходите. От кого же приветы?
— От Кошкинского...
— От Кошкинского?! — восторженно-удивленно воскликнула я.
— Я милиционер, моя фамилия Григорьев, охраняю в подвале арестованных. А вас знаю давно, и спектакли ваши смотрел. Мне очень нравится ваша Анисса. А Кошкинский нас, милиционеров, пропускал в театр бесплатно...
— Как здоровье Иоакима Степановича? — остановила я словоохотливого парня, поспешив узнать что-нибудь о муже.
— Он здоров, весьма весел. На газетных обрывках новую комедию пишет. «Когда цветет черемуха» называется...
— Спасибо большое за добрые вести... Передайте ему от нас с дочкой привет, скажите, что мы тоже здоровы...
— А вы напишите ему, я передам, иначе он не поверит, что у вас побывал.
Написала записку, Григорьев распрощался и ушел, а я благодарно думала: какие все же есть добрые люди на свете! Ведь Григорьев ни на секунду не верит в то, что Кошкинский в чем-то виноват...
В комнату вбежала маленькая Изида. Свернувшись клубочком на постели, она вдруг начала всхлипывать. Я подошла к ней, обняла, спросила:
— Что с тобой, дочка? Почему ты плачешь? Тебя кто-то обидел?
— Жанка мне на спине свастику нарисовала! Говорит, мой папа — враг!.. — И дочка заплакала в голос.
Еле успокоила дочурку и долго сидела рядом, пока она не уснула.
Такие сцены разрывали сердце не только детям, но и взрослым. Я частенько стала плакать и сама.
Жанна была дочерью редактора газеты «Канаш» П.И. Иванова. Жили они напротив, дети наши часто играли вместе. Павла Ивановича тогда еще не арестовали, и винить ребенка в его глупости не стоило: ребенок есть ребенок. Но видеть страдания своего ребенка в результате подобных сцен было невыносимо...
Прошло, пожалуй, не больше недели с того дня, как нас навестил Григорьев, и нам с Васильевой принесли повестки явиться в суд свидетелями по делу арестованного Григорьева... «Григорьев арестован? За что? За то, что приходил к нам? Кто же сообщил им об этом? Но зачем вызывают не только меня, а Лидию Ивановну тоже?» — терялась я в вопросах и догадках.
В назначенный день мы отправились в суд. Но и там я мало чего узнала: свидетелей вызывают по одному, и я не слышала, что говорила Лидия Ивановна.
Григорьева посадили на пять лет за нарушение воинской дисциплины... Ну ладно, скажем, нарушил дисциплину, но пять лет за то, что передал нам привет? Кто же донес на него за визит к нам? Разгадку я узнала лишь через год, находясь уже в лагере: там я случайно встретила милиционера Григорьева...
— Знаете, кому я обязан своим арестом? — спросил он меня при встрече.
— Не знаю и вот уже год ломаю голову над этим...
— Ваша соседка Васильева... Эх, вернуться бы мне в Чебоксары, уж я бы поговорил с ней! — размечтался невинно посаженный чувашский парень. Но вернуться ему не довелось: с началом войны он ушел на фронт танкистом и на полях сражений геройски сложил голову...
* * *
Наступил сентябрь. В Москве моя дочь проучилась год, и сейчас надо бы ей ехать туда на учебу, но меня не выпускают из Чебоксар.
Сижу как-то на кухне и читаю газету «Красная Чувашия». Васильева готовит ужин, а в газете под заголовком «Японский шпион» громят-клеймят писателя Н.В. Шубоссинни! Я так и ахнула:
— Вот те раз! Попробуй теперь докажи, что ты не шпион!
— Что-что? Кто такой шпион? — живо обернулась ко мне соседка.
— Да вот Шубоссинни объявили японским шпионом! Он в самом деле живет в квартире бывшего японского атташе. Ему как сотруднику Колхозцентра ее купили.
— А вы откуда об этом знаете? — заинтересовалась Васильева.
— Да он сам мне об этом рассказывал...
На этом наш разговор закончился. А вскоре меня арестовали.
* * *
Мы спим с дочкой на одной кровати. Слышу стук в дверь. Оделась, подхожу к двери, открываю. На пороге следователь НКВД и милиционер. Проснулась Изида.
— Одевайтесь, вы арестованы, — без лишних слов сообщил следователь.
Меня это не удивило: еще тогда, когда я вышла от Розанова, поняла, что меня рано или поздно арестуют. И все же жила с надеждой, что честного человека не должны арестовывать, и верила, что мужа тоже скоро выпустят. Так что арест меня не испугал, потому что я не совершила в жизни ничего преступного. Эту ошибку непременно исправят честные советские люди, я верила в это свято. А лагерь вытерплю, я молодая, здоровая, но как выживет моя восьмилетняя девочка без отца и без матери? Откуда взять ей, малышке, сил и ума, чтобы выдержать такую беду?..
Изиду вытолкали из комнаты на кухню, дверь нашу опечатали сургучом. Боже, есть ли сердце у этих людей, что лишили ребенка жилого места? Да и что опечатывать у нас в комнате, где одна кровать, два стола, два стула и один чемодан? Нет, это не были советские люди, что арестовывали меня, советские люди так не поступают...
Войдя на кухню, увидела свою девочку. Она сидела за столом, сжав руками голову. Мне не дали ее даже переодеть, она так и осталась в длинной ночной рубашке. Она не плакала, молчала.
— Изенька, солнышко! Знай: я не виновата, доченька! Возможно, я скоро вернусь, и мы опять будем вместе. И папа вернется... — Я поцеловала все так же молчавшую девочку и пошла к дверям.
— Если у вас есть деньги, оставьте их ребенку под расписку соседям, — посоветовал следователь.
И я оставила все имевшиеся у меня пятьсот рублей Васильевой, не взяв даже расписки: как же, свои ведь люди.
У дверей я обернулась. Изида стояла, как изваяние, спиной ко мне. Ах, бедняжка! Видать, у нее окаменело сердечко, коль она даже заплакать не может! Такое взрослому не под силу выдержать, а что говорить о ребенке. Не зря говорят: «Черное горе даже солеными слезами не растопить»...
* * *
Мы вышли со двора. Следователь идет по левую сторону от меня, милиционер — по правую. Идем по Аптечной улице, по которой мы с дочкой ходили на прогулку к Волге. Когда поднялись по лестнице наверх, я оглянулась на город, освещенный редкими огоньками. Тишина, даже не слышно лая собак. Дошли до угла аптеки, и я взглянула на Волгу. Она мирно спала, лишь вдалеке мерцали огоньки поднимающегося с низовья парохода.
«О Волга, колыбель моя...» Неужто в последний раз вижу тебя, великая матушка Волга? Нет-нет, не может такого быть! Я обязательно выйду на свободу! Выйду!..»
Милиционер не поторапливал меня, словно чувствовал мои потаенные мысли.
Вошли в тюремный двор. Жуткое здание. Окна поверх решеток заколочены досками — наверно, для того, чтобы сидельцы не видели дневного света. Это здание вызывало животный страх даже тогда, когда мы проходили мимо него, гуляя по берегу Волги. Но мысль о том, что сюда наверняка не попадают невинные люди, успокаивала. И вот теперь... Тюрьма, виновных ты принимаешь заслуженно, а почему безвинных тоже берешь в свои объятья? Бездушное здание, ты не можешь мне ответить...
Дежурный надзиратель препроводил меня на второй этаж и, со скрежетом отворив тяжелую железную дверь, впустил в камеру. С тем же скрежетом дверь захлопнулась, резанув прямо по сердцу.
Я стою у двери, словно незваная гостья, и жду приглашения хозяев войти. Камера маленькая, темная — под потолком слабая электролампочка, словно мышиный глаз. Двухъярусные нары, на них, прижавшись друг к дружке, спят женщины. От скрежета двери они проснулись и, как по команде, подняли головы.
— Тани Юн! — вскричала вдруг одна из них. «Ты гляди, и тут есть такие, кто меня знает», — удивилась я. А женщина, узнавшая меня, уже приглашала устраиваться рядом с собой — это была Иза Николаевна Кузнецова*.
И потянулись дни, как две капли похожие один на другой: сегодня как вчера, вчера как позавчера... На допрос не зовут, за что арестовали — непонятно. От такого ожидания можно сойти с ума! Думаешь, думаешь — и свихнешься. Чтобы развеять неотступные мысли, без конца смотрю в окно. Да и там, кроме полоски голубого неба днем и редких звезд на ночном небо-склоне, — ничего. Хорошо, что в ясный день сквозь щели между досками, которыми забиты окна (они выходят в сторону Волги), видны играющие на волжской волне солнечные зайчики...
Мой муж, оказывается, сидел на первом этаже, как раз под нашей камерой. Об этом мне сообщила Иза Николаевна в первый же день моего здесь появления. Но увидеться с ним, поговорить было невозможно. Лишь когда нас выводили на прогулку, Кошкинский наблюдал за нами сквозь щели между досками. И радовался, увидев меня, и кричал: «Вижу, вижу тебя, дорогая!»
На прогулку отпускалось пятнадцать минут. И даже за это время мы успевали порадоваться и пролетевшей над головами птице, и зеленой травке вдоль каменного забора, напоминавшей вольную жизнь на свободе. А в небе уже сбивались в стаи грачи — готовились к перелету в теплые края. И невольно в голове родились слова, умоляющие взять меня с собой, на свободу: «Вольные мои птицы, умоляю вас: возьмите меня с собой хоть на самый далекий остров, вызволите невинную душу из этого каменного мешка! Ах, как жаль — не слышите вы моей мольбы!.. Взгляните сверху на маленький квадрат за высоким забором, где «гуляет» несчастная женщина. Знаю, по весне вы вернетесь сюда. Но тогда вы уже не увидите меня — я тоже, как и вы, буду на свободе!.. А сейчас я желаю вам доброго пути, мои вечные путешественники, летите с богом и возвращайтесь, предвестники наших вёсен и осеней!..»
Разговаривая с птицами, я и не заметила, что стою на месте.
— Не останавливаться! — резанул слух злобный голос надзирателя.
Однажды мы выходили на прогулку, и вдруг из-под лестницы меня кто-то окликнул:
— Тани Юн, ты знаешь, кто тебя сюда посадил? — Голос показался знакомым. — Я — Ефимов. И тебя, и меня посадила Лидия Ивановна...
Ноги подо мной так и подкосились... Я вернулась в камеру, легла на нары, задумалась. За что же она могла на меня донести? За то, что делала ей только добро?.. Теперь ясно: Григорьева оклеветала она же. Позже я узнала, что и жену Остен-Сакена* засадила все та же Лидия Ивановна. Она знала наперед, что ее доносы закончатся нашими арестами, и пользовалась этим даже по мелочам. Незадолго до моего ареста у меня куда-то запропастилась одна модельная туфля. Искала-искала — не нашла. Зато у Лидии Ивановны, как всегда, на все готов ответ:
— Изида, наверно, с подружками играла, вот они в туфлях-то форсили-форсили да и потеряли одну... А вы что с ней, с оставшейся-то, будете делать? Дали бы мне, я бы в Ленинграде другую заказала — уж больно они мне нравятся...
В самом деле, что делать с одной туфлей? Отдала попрошайке. И вспомнила еще случай. Я попросила маму привезти мне из дома костюм, но и тут вмешалась Лидия Ивановна:
— Да что вы будете старушку зря мучить — я вам сама его и принесу...
Мама, ничего не подозревая, отдала ей костюм, но до меня он не дошел: в нем и в моих туфлях форсила по городу моя соседка. Об этом мне позже рассказали мои друзья. Чтобы усовестить воровку, они прямо ей в глаза говорили:
— Ах, Лидия Ивановна, какие у вас туфли-то красивые! Точь-в-точь как у Татьяны Степановны, даже кожа такая же... Нынешние мастера умеют работать, чудеса творят...
Но воровку ничем не проймешь — она даже деньги, что я оставила для Изиды, не отдала маме. А людям еще и врала, мол, не оставила дочке ни копейки мать-то, сама кормлю-пою, на свои деньги... Накануне ареста я сдала в прачечную белье и носильные вещи, и, когда прачка принесла их, меня уже не было, она оставила все Васильевой. Их я тоже не увидела.
Васильеву не останавливало ничто, она воровала прямо на глазах у всех. В 1938 году состоялся суд над Кошкинским, и писатели Л. Агаков, П. Осипов, рабочий театра А. Попов собрали тридцать рублей, чтобы передать Кошкинскому. Но милиционер, опасаясь, как бы его не заподозрили в нарушении, попросил передать их в камеру кого-нибудь из гражданских. Васильева, пришедшая на суд в качестве слушательницы, тут же вызвалась со своей услугой: давайте мне деньги, я их сама отнесу...
Кошкинский этих денег не получил.
Представьте аппетиты этой женщины: мало ей моих пятисот рублей, моего белья, носильных вещей и обуви, так она еще и собранные для сидящего в тюрьме человека деньги присвоила! Мало ей, что она этих людей и посадила, так она же их и обворовывала! И как только носит таких негодяев земля-матушка?
Когда мы освободились из тюрьмы, Васильева попыталась передо мной оправдаться. Я отрезала раз и навсегда:
— Я не хочу с вами разговаривать, гражданка Васильева! — И пошла, не оглядываясь, своей дорогой.
Но она вновь догнала меня, и я еле-еле сдержалась, чтобы не плюнуть ей в лицо.
— Сгиньте с моих глаз, иначе...
Поражаюсь: Иван Васильевич — уважаемый человек, и так распустить жену! Сказать, что не знал о ее проделках, — не получается: ведь он видел на ее ногах мои туфли, видел, как она тратит деньги Изиды... С другой стороны, чему тут удивляться, если сам Васильев бахвалился, что это он посадил Кошкинского. Только и скажешь: два сапога пара...
* * *
В камере я провела четыре месяца, и за все время меня допрашивали один-единственный раз. Собственно, и тогда ни о чем таком не спросили, кроме как о квартире Шубоссинни, о которой я уже давным-давно все им рассказала. Сижу и не знаю, за что, в чем моя вина. И все же надеюсь, что завтра меня выпустят. Но вместо этого в конце января меня пригласили к помощнику начальника тюрьмы, который подал мне бумагу и сказал весело, словно сообщил какую-то радостную весть:
— Распишитесь здесь. Вам дали восемь лет...
— Кто вынес этот приговор? За какое преступление?
— Не ваше дело. Расписывайтесь, — уже глухим басом пробубнил тюремный пес.
— За то, что ты не совершал, — восемь лет?! И знать тебе об этом не положено?! — И я расписалась и пошла, словно пьяная, по коридору, держась за стены, в камеру. В ней гробовая тишина. На меня молча смотрят восемьдесят глаз. «Сколько?» — спрашивают они. У меня язык не поворачивается назвать цифру, и я поднимаю обе руки и показываю восемь пальцев...
Наступила ночь. Все улеглись ко сну. Легла и я, но сна как не бывало. Какое же зло я сделала в жизни и кому?.. Перебираю прожитые дни, месяцы, годы, начиная с самого детства. Они мелькают в памяти, подобно кадрам кинокартины... Не нахожу ни одного нехорошего поступка. Ребенком я не воровала с чужих огородов огурцы или яблоки — у нас всегда были свои. Повзрослев, я не ссорилась со старшими, больше того — слова грубого никому не сказала... За что же сегодня меня так жестоко наказали? Обидели, унизили... За что?..
И я расплакалась. Терпела, терпела — и вот не выдержала. Сил не хватило. Все спят, а может, и слышат мой плач, но не смеют потревожить. И я проплакала всю ночь...
Второй раз я плакала, когда нас этапировали из Канаша в Алатырскую колонию. Привели к железнодорожной станции. К вагону мы шли не по платформе, а вдоль рельсов, меся ногами глубокий снег. Когда дошли до вагона, раздалась команда:
— На колени!
Сердце так и оборвалось: в такой глубокий снег — и на колени? Однако все уже сидели в снегу, а я чуточку замешкалась.
— Тебе что — отдельную команду надо? На колени! — злобно заорал конвоир.
Услышав команду, я опустилась в снег, а по лицу побежали неудержимые горячие слезы.
Ах, боже, боже! Зачем же так топтать человеческое достоинство?! Лечь бы сейчас на нары и плакать, плакать, как в ту ночь...
Подробнее см. прикрепленный файл.
О Тани Юн и книге чит.: Изданы воспоминания Тани Юн «Дни и годы минувшие»